20
СМЫСЛ
И СИМВОЛ В ПРОЕКТИВНОМ РИСУНКЕ
Т.В.Снегирева
Рисунок “Моя
семья” с его широкими и во многом еще неисчерпанными диагностическими и
коррекционными возможностями все чаще используется в детской и семейной
психотерапии. Как любая проективная техника, он обращен к тем содержаниям
душевной деятельности, которые находятся не на “свету сознания”, будучи
отчетливо представленными ему, а в подпороговом состоянии. Рациональное начало
личности в этих случаях как бы регрессирует, на его место приходят идеи и
образы, связи и отношения, лишенные четкой определенности и логической
последовательности, но тем не менее – полные смысла. Смягчение сознательного
контроля и своего рода капитуляция всей “службы” Эго с его защитными
механизмами – одна из важнейших предпосылок работы проективных техник. Находясь
в подпороговом состоянии, эти содержания психического благодаря своей
непроясненности, невыявленности, многозначности сопровождаются существенно
меньшим напряжением, сравнительно с той его степенью, которую они способны
вызвать, приближаясь к сознанию. Поэтому в символике и графической экспрессии
рисунка выступает та неосознаваемая реальность, которая хотя и определяет
самочувствие и поведение ребенка, будучи безотчетно воспринимаемой им, но не
может быть выражена в слове.
Главный
продукт, извлекаемый из детского творчества психологом, конечно же, не
буквальное содержание рисунка, что схватывается при первом, беглом ознакомлении
с ним, и не его изобразительные качества, в принципе соотносимые с уровнем
психического развития ребенка [10], а тот
сокровенный смысл, который
21
заложен в работе и
который зачастую даже превосходит масштабы развития и житейского знания
ребенка. Указанной особенности полностью соответствует и язык, которым пользуются
юные авторы, – язык символов. К одной из его особенностей можно отнести ошибку
восприятия: он выглядит обманчиво примитивным, по сути являясь безгранично
глубоким.
В данной статье предпринята попытка рассмотреть
принципы построения символа в детском рисунке. Материалом для анализа служат
работы подростков-пятиклассников. Мы использовали так называемый кинетический
вариант указанной проективной техники [8]. По
инструкции дети должны были изобразить свою семью в один из тех знакомых
каждому моментов, когда домочадцы собираются вместе и чем-то заняты.
Как известно, главной чертой символа является
способность использовать некоторый “предмет”, или предметный образ, который
выходит за пределы своего непосредственного содержания, являясь еще чем-то
другим, что не есть он сам [4]. В структуре
символа со всей очевидностью наличествуют два главных компонента:
символизирующее и символизируемое. В качестве первого выступает предметный образ,
второго – глубинный смысл. Две эти составляющие – как два полюса, которые, по
словам С.С. Аверинцева,
немыслимы один без другого, оставаясь различными между собой [1]. С поразительной точностью эту особенность
символа выразил А.Ф. Лосев, найдя для нее емкое определение: “единораздельная
цельность” [5].
Переходя в символ, предметный образ становится
прозрачным для смысла, “будучи дан как смысловая глубина”. Несколькими строками
позже С.С. Аверинцев делает существенную поправку: “не дан, а задан”. Смысл
объективно осуществляет себя в образе не как некая готовая наличность, а скорее
как “динамическая тенденция”, увлекающая в бесконечность смысловой перспективы.
Процесс понимания рисунка, благодаря которому из
первоначального неуловимо размытого, неопределенного в своей многозначности
смыслового содержания возникает одна преобладающая идея, властью которой
вносится порядок и связь в разрозненные фрагменты детской работы, достаточно
сложен. Он в большой степени интуитивен, а, значит, совершается за счет
восприятия через бессознательное. Проникновение в скрытый план символа,
безусловно, требует вчувствования в содержание детской работы, восприятия ее
глазами автора и проживания как бы его душой, т.е. предполагает симпатию.
Участвует в этом процессе и мышление, которое, опираясь на знание, проверяет,
насколько объективны наши чувства и эмоциональные оценки, какова их подлинная
ценность. Отсюда вывод: даже если восприятие и интерпретация рисунка
предполагают такую психическую полифункциональность, то вряд ли без нее
обходится та авторская композиционная творческая работа, которая порождает и
самую символику языка, и смысл того, что он выражает.
Этот вывод заставляет предположить, что между
означенными выше структурными полюсами символа содержится некое пространство,
также обладающее собственной структурой. Каковы же ее составляющие?
Пытаясь ответить на этот вопрос, мы находим
опору в той модели образа сознания, которая была предложена Ф.Е. Василюком [2]. Напомним, что она выступает в виде
психосемиотического
22
тетраэдра,
углы которого составляют предметный образ как представитель внешнего мира;
значение, кристаллизирующее в себе общечеловеческий культурно-исторический
опыт; слово как универсальный знак, представляющий мир языка, и личностный
смысл, через посредство которого выявляет себя внутренний мир человека. Объем
же тетраэдра наполнен чувственной тканью – телесностью, поскольку, как подчеркивает
автор, любой образ, даже связанный с самой абстрактной идеей, всегда воплощен в
чувственном материале.
Может возникнуть возражение: насколько
правомерно использовать модель образа сознания в качестве структурной
основы символа, природа которого уходит в глубины бессознательного? Это
возражение можно было бы признать справедливым, если бы не характерное для
нашего времени стремление преодолеть пропасть, разделяющую эти два плана
психической жизни, и интегрировать активность того и другого в рамках единого духовного
организма.
В этой области можно выделить две тенденции, которые, содержательно различаясь, приводят, тем не менее, к общему итогу.
I. Одна связана с
именем К. Юнга, в творчестве последних лет которого огромное место занимает проблема
души современного человека. К. Юнг вводит в научный обиход категорию “душевного
организма”, различая в нем три уровня: сознание, личное бессознательное и
коллективное. Связывая сознание прежде всего с осознанием (о чем говорит
метафора “света”, в сопровождении которой ученый зачастую употребляет это
понятие), К. Юнг был озабочен тем, чтобы отделить от него “душевное”. Призывая
не сводить одно к другому, он утверждал: “Нет ничего более несоизмеримого, чем
действительность нашей души и действительность нашего сознания”. И следующим
образом пояснял свою мысль: “Душа представляет собой гораздо более обширную и
непонятную область опыта, чем строго ограниченный световой конус сознания [7; 136].
Вместе с тем нельзя не заметить, что хотя он и
стремится с достаточной твердостью развести этажи душевного организма, но при
этом пристально прослеживает тончайшие переходы и прорывы абсолютного
бессознательного в более верхние его слои, а равнодействующей бессознательных
процессов – внутрь сознания. Привлекая весь свой научный и жизненный опыт, он
убеждает, что содержания бессознательного являются фундаментом сознательной
души, ее корнями.
II.
Проницаемость границ между сознательным и бессознательным, принципиальная
целостность внутреннего мира человека, подчеркивается и в отечественной
литературе в рамках разрабатываемой в последние годы концепции сознания, где
оно, вслед за Л.С. Выготским, представлено как системный духовный организм,
наделенный функциональными органами, в качестве которых и выступают функции и
состояния сознания [3]. Внутрь самого сознания
включаются явления двух уровней – контролируемые им и неявные по отношению к
нему.
Таким образом, если в концепции К. Юнга душа
рассматривается как нечто самостоятельное и не сводимое к сознанию, то
сознание, выросшее до масштабов духовного организма, ставшее поистине
вселенским, начинает включать и тело, и душу. Но главное в том, что оба
подхода, как бы они не различались по своим
23
корням,
ведут к интеграции сознаваемого и бессознательного, духовного и телесного.
Сказанное позволяет нам вернуться к
упоминавшейся выше модели образа сознания, в которой заложены плодотворные
возможности описания и анализа различных феноменов сознания, включая и феномены
души, т.е. символ “творится” с участием того и другого.
И последнее замечание. Те структурные
различения, которые со всей возможной четкостью устанавливаются в рамках
теоретического анализа, за его пределами неизбежно утрачивают свою схематичную
чистоту. И, пожалуй, более всего это относится к проективному рисунку. Практика
работы убеждает, что его “прочтение” сводится к единому интуитивному акту,
посредством которого все образо- и смыслосоздающие элементы рисунка
воспринимаются в своей целостности, где не остается места ничему случайному и
механически служебному. Выделенные полюса теоретической модели образа в данном
случае также начинают выступать в формах, тяготеющих к целостности, растворяя
разделяющие их границы.
А теперь рассмотрим, как работает данная
теоретическая модель в проективном рисунке.
Предметное содержание
символического образа – это сама жизненная наглядность, живая конкретика
изображения, в которую символ “встраивается”, но не совпадает с ней целиком и
полностью. Рисунки наших испытуемых изобилуют изображениями человеческих фигур,
домашних животных, вещей, среди которых протекает жизнь семьи, книг, вечернего
света, разного рода технических и электронных устройств, машин, без которых уже
не мыслится современная культура, а наряду с этим – изображением природных
форм. Вся эта реальность настолько уже отрефлектирована и прочувствована в
общечеловеческом, культурном и личном опыте, что особенности каждого рисунка
сразу же заставляют нас резонировать определенным набором эмоций и мгновенной
бессознательной оценки. Но основной эффект пока еще остается не достигнутым.
Для того чтобы предметная конкретность образа могла приблизиться к рангу
символа, она должна отвечать некоторому минимуму условий.
Прежде всего, подросток рисует семейную
реальность такой, какой она предстает в его субъективном переживании. И как бы
автор ни был преисполнен желанием удержаться в рамках строгого реализма (а все
дети стремятся к точности изображения), содержание переживания, модальность
испытываемых чувств помимо авторской воли накладывает отпечаток на форму и
стилистику изображения. Это влияние проявляется в искажениях предметных форм,
разных погрешностях, деформациях, привнесениях и т.д., благодаря чему
изображение и начинает наделяться условной языковой функцией.
Вот, например, одна из рисовальщиц в самый центр
рисунка помещает изображение огромной, тяжелой двери, а себя оставляет за
кадром. И хотя фигура девочки отсутствует в пространстве рисунка, ясно, что
величина двери измерена всей полнотой реально пережитого ею горестного опыта.
Дверь в данном случае выступает символом жестких семейных запретов, отвержений,
перед фактом которых личность подростка просто перестает быть (и автор
устраняет себя из кадра).
Таким образом, не сама по себе точно
воссозданная объективная реальность,
24
а
реальность, прочувствованная, принявшая в себя субъективный опыт переживаний
подростка, которые стремятся и выразить себя, и остаться сокрытыми, составляет
предметно-образную основу символа. И чем больше в изображении отброшено
второстепенных признаков, чем лаконичнее изобразительный язык, тем яснее
проступает сущность символического образа.
В качестве главного и самого красноречивого
средства в передаче потаенного смыслового плана рисунка становится язык
телесности. Подобно тому как многочисленные точки человеческого уха по канонам
китайской медицины являются проекцией всего нашего организма, так само
человеческое тело выступает проекцией содержаний Я и вообще всей душевной
жизни.
Просматривая рисунки, невольно обращаешь внимание
на разного рода странности в изображении подростками и самих себя, и своих
близких. Как уже говорилось, это не столько погрешности исполнения, сколько
очень важные, образосоздающие акценты. У одних фигур непомерно большая голова,
доминирующая над остальным телом, у других – широкая, словно источающая
обильные чувства грудь, у третьих стойкие, бесконечно тянущиеся вверх ноги, а
еще у кого-то как раз ног-то и нет. Самого себя иной подросток рисует в самом
центре листа и в образе тяжеловеса, а другой – в виде едва заметного пятнышка,
готового исчезнуть за спинами других, более весомых фигур. Легко понять,
насколько все это психологически значимо. В проективном рисунке не бывает
ничего случайного.
И если учесть, что и сами образы, и средства
изобразительного языка черпаются автором из глубин бессознательного, то доступ
к ним также пролегает через бессознательное и телесность, только уже –
адресата. Психолог-интерпретатор, используя самого себя как инструмент
проекции, следует той же дорогой, но в обратном направлении, – переводя
предметнои телесно-образную выразительность рисунка на язык человеческих
переживаний.
Полюс значения представлен в проективном
рисунке прежде всего всем многообразием его метрических и топологических
характеристик. Если этим параметрам также придать психологическое значение,
образуя смысловую параллель между их общепринятым и новым, необычным для них
психологическим значением, то язык рисунка обогатится дополнительными
возможностями. Психологическую нагрузку получают такие особенности рисунка, как
дистанция между фигурами, величина последних, их расположение на листе – сдвиги
вверх или вниз, влево и вправо, непрерывность изображения в целом или,
напротив, его разорванность, четкость границ, симметрия и асимметрия и т.д.
Психологическое значение этих метрических и топологических особенностей
графического пространства заложено в основу каталогов, с помощью которых
облегчается интерпретация рисунков и обеспечивается ее объективность.
С опорой на эти свойства рисунка удается
выделить, например, наиболее типичные паттерны, в форме которых семья
воспринимается подростком. Оказывается, не только несчастливые, но и счастливые
семьи не похожи друг на друга. Некоторым из ребят их родное гнездо
представляется целостным и неделимым; другие различают здесь отдельные
группировки (в подростковом возрасте, когда интенсивно формируется полоролевая
25
идентичность,
мальчики, например, часто выделяют в одну группу себя и отца, отделяя мать в другую
– общую с сестрой, бабушкой или самыми младшими из домочадцев); третьим – семья
видится чем-то вроде семейного вагона, где у каждого есть свое одноместное
купе; наконец, четвертые капсулируют себя, подчеркивая тем самым чувство
собственной изолированности (или отстраненности другого члена семьи, который
воспринимается как труднодосягаемый для близких). Таким образом, мы получаем
наглядно представленную структуру каждой конкретной семьи с присущими только ей
особенностями внутрисемейных отношений.
Правда, следующий шаг обнаруживает, что
внутреннее психологическое пространство обладает собственными законами, которые
резко отличают его от любого другого. Границы, жестко обозначенные в физическом
мире, здесь способны становиться прозрачными или даже исчезать совсем.
Напротив, там, где в материальном выражении они отсутствуют, здесь могут
ощущаться вполне реально, как непреодолимые преграды и барьеры. Человек,
который по тем или иным причинам не участвует больше в жизни семьи, во
внутреннем пространстве может продолжать пребывать рядом; напротив, тот, кто
фактически рядом, если он далек, остается незримым, как будто его нет вовсе.
В рамках этой реальности вполне допустимо, если
в центр картины семейной жизни, не нарушая ее целостности, вдвигается какой-то
чужеродный фрагмент, принадлежащий другому, внешнему миру. Так, на одном из
рисунков в самую сердцевину домашнего очага встроен уличный фрагмент: вечер,
фонарь и в световом конусе – отец, направляющийся к дому, где судя по всему,
чувствуют его приближение. А бывает, одна и та же фигура способна
раздваиваться, пребывая одномоментно в двух разных местах картины.
Кроме того, отдельные фигуры могут произвольно
изменять свои размеры, причудливо-гибкими оказываются и пропорции тела, а также
отдельных его частей.
Значение, сохраняя свои свойства – точность,
неизменность, определенность, – не спорит с творческим своенравием
символического мышления, и не только применяется к его требованиям, принимая их
условность, но и служит им всей точностью своего аппарата: если какая-то фигура
в восприятии автора психологически доминирует, значит, и на рисунке она будет
выглядеть крупнее, внушительнее, масштабнее других; если двое в семье чувствуют
отчуждение друг от друга, то и на рисунке их изображения непременно будут
разделены четко прорисованными преградами или всей площадью листа.
К полюсу значения в определенной степени может
быть отнесен и цвет, которому в живописи отводится ведущая роль среди основных
изобразительных средств. Хотя в каждой культуре существует своя мифология
цвета, многие его характеристики признаются универсальными. Очевидно, структура
основных цветов обладает стойкими физическими, физиологическими и
психологическими характеристиками, которым также придается свойство
универсальности. С учетом этой особенности разработан хорошо известный цветовой
психологический тест Люшера. Да и в жизненной практике разве мы не понимаем
друг друга, когда говорим о теплых и холодных, веселых и грустных, мягких и
жестких цветах
26
и
цветовых сочетаниях, определенно имея в виду при этом голубое и желтое, красное
и серое, зеленое и, скажем, фиолетовое и пр.?
Пространственные и цветовые особенности,
преобладающие в рисунке, – первое, на основе чего складывается его восприятие
как целостного художественного образа. Но, как и топометрический язык рисунка,
цвет может выполнять роль акцента, передающего тонкие психологические оттенки
внутрисемейных отношений (мать и сын, стоя по разным концам семейного ряда,
разлученные другими членами семьи, могут быть соединены цветом, окрашивающим их
фигуры, нередко единственным в рисунке, что может служить свидетельством их
внутренней близости).
Знак, в качестве которого
выступает слово, – вторая структурная составляющая образа сознания. Даже в
рисунке, где роль собственно слова сводится к нулю, реальность языка
представлена во всей своей первобытной силе. Целый ряд выразительных средств,
которыми пользуются авторы, передавая свои мысли и чувства, остался бы
совершенно необъяснимым, если не рассматривать язык в качестве их прямого
истока. То, что в языке предстает в виде привычной языковой фигуры, застывшего
языкового оборота, оживает в образе, сообщая ему определенное значение.
Рассмотрим это на примерах. Дети, ощущающие
дефицит общения с близкими или собственную неконтактность, как известно, рисуют
себя и тех, кто их окружает, без кистей рук. На память приходит ряд
соответствующих случаю выражений: “вести за руку” (в смысле воспитания), что-то
делать или жить “рука об руку”, “взявшись за руки”, а с другой стороны – “руки
не доходят”, “выронить из рук” и, наконец, “как без рук”, когда хотят выразить
полную беспомощность.
Подростки, которые в силу каких-то причин
утратили отца, часто рисуют себя без стоп, как дерево без корней. Во многих
мифологиях “древо жизни” выступает прообразом не только вселенной, но и
человеческого рода. Корень – основа рода. Отец – первое лицо в семье, ее
корень, имеющий свойство рождать детей во плоти и духовно. Без корней – без
рода, без стоп – без отцовской опоры. И на этот счет в языке немало
близких по смыслу выражений: кого- то “поставить на ноги” – в значении дать
опору, воспитать; “стать на ноги”, “стоять на своих ногах”, т.е. вырасти,
обрести самостоятельность; “прочно стоять на земле” – опять же чувствовать
уверенность, опору в себе самом.
Перечень подобных примеров, где слово
“вдвигается” между предметным образом и его значением, облегчая понимание
последнего, мог бы быть продолжен. Мы снова и снова становимся свидетелями
того, как наглядно-конкретное содержание, объективированное в речевом обороте,
получает живое воплощение в телесном образе рисунка, сохраняя логику языка и,
можно сказать, сообщая этому телесному языку знаковые свойства. Раскодированию
такого рода телесных знаков в каталогах также отведено немало страниц.
Прежде чем поставить точку в этом разделе, уместно
вспомнить научное направление, связанное с именем известного психоаналитика
нашего времени Ж. Лакана [9]. Он изучал
бессознательное именно в его отношении к языку, что находит подтверждение в
знаменитом высказывании: “Бессознательное структурировано, как язык”. Известен
и другой его тезис: “Бессознательное познается
27
через
букву”. Буквой в этой теории названо означающее, в качестве которого может
выступать любой условный символ в широком смысле слова – от симптома феномена
до его обозначения. Означаемое же связывается с глубокими содержаниями психики,
ускользающими от осознания и выражающими себя при помощи буквы. Отношение
означающего к означаемому, по мысли Ж. Лакана, и есть формула знака. При всех
различиях своих составляющих это отношение всегда стремится к единству.
Избавление от симптома мыслится как поиск адекватного дискурсивного
означающего.
Остается открытым вопрос (и это не раз
отмечалось в литературе): каким образом надличностное и безличное означающее
приобретает силу действия на уровне индивидуальной психики?
Символ также можно считать ареной встречи
означающего и означаемого. Но психологически чем-то более глубоким,
сравнительно со знаком, символ становится благодаря личностно значащему (и,
конечно, в целом ряде случаев – общекультурно значимому, но это отдельная
тема). Так мы подходим к следующей узловой точке образа сознания – личностному
смыслу.
Личностный смысл
в рисунке проявляется двояко. Прежде всего понимаешь, что эта категория
представляет собой не некую абстракцию, а вполне конкретное, субъективно
значимое, аффективно окрашенное переживание. Во-вторых, чтобы обнаружить себя,
смысл проявляется в своей активной, творящей потенции: он не столько выступает в
образах, знаках, значениях, сколько совершается с их помощью. Обнаруживая себя,
смысл определенным образом связывает все казавшиеся случайными фрагменты
рисунка, упорядочивает, выстраивает, логически соединяет их. В этой смысловой
структуре всегда находится главное звено – центральный символ, который
выступает определяющим принципом построения рисунка в целом.
Рассмотрим один из примеров: автор – девочка
(рис. 1). Лист вертикально разделен на три равные, изолированные друг от друга
части (паттерн семейного восприятия, названный “купе”). Родители на этом
рисунке разъединены всей площадью листа. Отец изображен в верхнем углу, слева.
Он сидит перед телевизором на стуле – с коротенькими, не достающими пола
ногами, как сидят дети. Наверное, в глазах дочери он недостаточно весом, ему
недостает чувства реальности, “витает в небесах”. Мать, нарисованная на нижней
стороне листа, справа, напротив, прочно стоит на земле. Красивая, как боярышня,
в длинном пальто и пушистой меховой шапочке, она гуляет с собакой Тимом. Зимний
пейзаж: голые ветви деревьев, снег... Холодно.
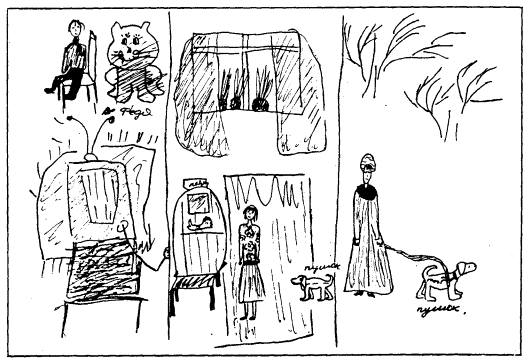
Рис. 1
А посередине этой картины – наш автор. Девочка
нарисовала себя старше своих лет, дважды обозначив свое одиночество: во-первых,
рамками “купе”, в котором она, как и другие члены семьи, оказалась заключена,
и, во-вторых, новыми границами, которые нашлись для нее в этом и так уж
ограниченном пространстве, в виде квадрата ковра, послужившего ей фоном и
одновременно замкнувшего ее со всех сторон, как в капсуле. Нет, капсула не
герметична: стенки ее проницаемы для попугая, с которым играет девочка, и все
того же Тима – раздвоившись, тот гуляет на улице с мамой и одновременно
крутится у ног художницы... Образ девочки противоречив: она чувствует себя
одновременно не по годам взрослой и не
28
по
годам маленькой. “Я очень одинока. Вот все мои друзья – пес и попугай”.
Когда семья на грани развода, дети именно так ее
и рисуют, – разъединив родителей всем пространством листа, а себя – посередине,
давая понять, что автор – тот единственный мостик, который их еще соединяет.
Соединять родителей в холодной семье – непростая работа. Она требует от ребенка
таких энергетических затрат, что на главное – собственную, детскую жизнь, также
требующую своего особого труда и усилий, труда роста и развития, сил уже
недостает. Этот опыт делает детей не по годам повзрослевшими, оставляя их не по
годам маленькими. Вот о чем рассказывает этот рисунок и его центральный символ,
где автор изобразила себя отгороженной от мира, словно в капсуле, слегка
приоткрыв ее для маленького пушистого пса и яркого попугая.
В ряде случаев личностный смысл, находя
выражение в рисунке через посредство какого-либо предметного образа или их
совокупности, может существенно отражаться на интерпретации этого образа как
знака, меняя его общую эмоциональную оценку и символическое значение в целом.
Так, например, если маленькие дети изображают
себя обычно как центр семейного универсума, к которому устремлены родительские
взгляды, то подросток и самого себя, и родителей нередко рисует в профиль (а то
и со спины), погруженными в свои дела и мысли: родительская фигура
располагается в зоне достижимого, но с соблюдением дистанции. И если не
считаться с обще возрастными особенностями подростков, их стремлением к
автономии, то такой
29
способ
изображения можно было бы расценить как знак внутрисемейной изолированности,
отчужденности, каким он и выступает в рисунках дошкольников. Как мы видим, одни
и те же графические образы в том и другом случае оказываются совершенно
полярными по смыслу.
Личностный смысл в данном случае предстает как
обще возрастная категория, что не мешает ему оставаться глубоко личным
переживанием (как видно, обще возрастные закономерности развития детей должны
серьезно приниматься во внимание при интерпретации проективного рисунка).
Личностный смысл содержит в себе внутренние
возможности валидизации той гипотезы, которая определяет целостную
интерпретацию рисунка. Верно раскрытый в своей интенциональной основе
центральный символ получает подтверждение в символике всех остальных
фрагментов рисунка. Последние в полном смысле слова оживают, между ними
начинается диалог, устанавливается связь, они взаимно дополняют друг друга,
помогая раскрыться все новым и новым сокровенным планам рисунка.
Помимо того что личностный смысл выполняет в рисунке
сложную системную, поистине творческую работу, он также наделен чувственной
тканью, которая ярко представлена в центральном символическом образе, как
образе прежде всего конкретно-телесном. Но это, конечно, “интеллигентная”
телесность, как отмечал А.Ф. Лосев, или телесность, по которой видна душа.
Таким образом, если на уровне значения и знака сокрытое содержание символа может быть познано, то на уровне личностного смысла оно может быть только интуитивно понято.
Итак, модель образа сознания, представленная
Ф.Е. Василюком в виде психосемиотического тетраэдра, послужила для нас основой
в анализе категориального каркаса символа, на образном и символическом языке
которого говорит проективный рисунок. Полюса тетраэдра соответствуют и основным
уровням проникновения в язык образной символики.
Мы убедились, что предметная конкретика рисунка может передавать какую-то сравнительно простую идею: в ней, например, безошибочно узнается лицо сегодняшнего технотизированного времени, в компьютерной атмосфере которого растет современное поколение детей. Рисунок как целое посредством своего общего пространственного и цветового решения способен вызвать у адресата определенное настроение и мгновенную спонтанную эмоциональную оценку. Затем он позволяет получить, основываясь на метрических и топологических пространственных свойствах, переведенных в термины психологических отношений, представление о структуре семьи, позициях, внутрисемейных притяжениях и отталкиваниях. На следующем уровне предметный образ начинает выступать в функции знака, открывающего доступ к какой-либо скрытой семантической фигуре и через нее – к личному бессознательному. Со всей убедительностью выступило, что Я прежде всего телесно, что чувства, переживания, испытываемые в адрес Я, имеют четкую проекцию в теле, пользуясь им как самым красноречивым языком. И наконец, символы рисунка подвели нас к еще более глубокому уровню проникновения в его скрытый план – смысловому, собирающему воедино отдельные части рисунка, благодаря чему они перестают быть частями, а смотрятся логически стройным и понятным целым. Поражает,
30
что
смысл не просто проступает в предметном образе, просвечивая сквозь него, но вне
сознательного намерения автора осуществляет себя в образах. Пожалуй, именно в
этой творящей силе, а не только в скрытых значениях символа и кроется подлинная
тайна проективного рисунка.
И вот когда, кажется, можно бы уже поставить
заключительную точку, в остатке обнаруживается последнее впечатление, как
отзвук всего, что мы видели и в суть чего старались вникнуть. Это впечатление
можно считать почти суггестивным, ибо никаких очевидных, весомых, зримо
выраженных оснований для него в рисунках не имеется. Тем не менее, едва
возникнув, оно становится главным.
Подобный эффект возникает, когда мысленно
охватываешь все рисунки разом, видя их в полярностях как художественных
решений, так и наметившихся уже жизненных судеб наших авторов, линии которых
явственно проступают в этих работах.
Когда подросток рисует себя рядом с родительской
фигурой, всем своим видом и характером деятельности повторяя ее спокойный,
уверенный облик (для двенадцатилетнего мальчика это все же, невзирая на
культурные поправки, фигура отца, для девочки – матери), из настоящего тем
самым как бы прокладывается мост в будущее, и путь к нему кажется достаточно
надежным.
Но в пачке работ есть, например, рисунок, автор
которого не знает и не имеет не только отца, но даже своего отчества (рис. 2).
Вместе с этой деталью биографии затерянным оказался целый жизненный мир,
связанный с отношением Отца и к Отцу. Рисунок трагически противоречив. Внешне
автор рисует себя в комфорте, явно лакируя жизненную реальность. Мальчик сидит
в мягком, большом кресле изысканной формы, перед телевизором, самый вид которого
ассоциируется с отдыхом и удовольствием. На голове – жокейская шапочка с
большим козырьком. А вместо лица – пустой овал. И сам – как деревянная
болванка, которой мастер успел приладить голову, руки, а ноги оставил на потом,
да так и забыл. Контраст материального благополучия
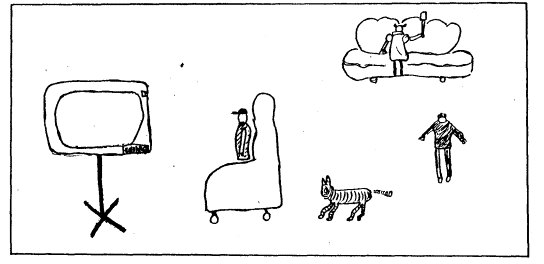
Рис. 2
31
и
тяжкого ущерба, которым страдает автопортрет, как бы затем и создан, чтобы
донести до нас, что переживаемая трагедия – не вещного характера. Истонченность
линий и прозрачная разреженность пространства рисунка также свидетельствуют об
онтологическом опустошении, которое происходит в жизни подростка.
Еще один рисунок, который тоже принадлежит
мальчику. Отец в реальности рисунка прочно укрыт в броне автомобиля.
Психологическую близость с матерью подросток выделяет тем, что вся его
поза и жесты точно копируют позу и жесты матери с той, правда, разницей, что
мать сидит за швейной машинкой, а сын – за партой, мать держит в руках шитье,
сын – книжку... Но, как видно, эта внутренняя связь не прибавляет автору
уверенности и достоинства: он изображает себя микроскопически маленьким, как бы
не вполне состоявшимся, не тем и не таким, как стоит быть, не в полную меру
ценным.
Какой же основной смысл в этих работах? Ответ
кажется очевидным. Разве в переданной выше символике не обнаруживает себя та
духовны эволюционирующая сущность, которая связывается с божественным началом
(как инобытием первосущности) в человеке и которая вправе полагать самое себя в
качестве наивысшего смысла и главного человеческого предназначения?
Неистребимое стремление – быть, исполняться, претвориться в этой
внутренней направленности к неясному, но далеко превосходящему все наличное
бытие пределу или, напротив, трагическое переживание остановки, препятствий,
помех, страх затеряться, пропасть – исходит изнутри этих детских работ как
эффект их энергетического смыслового последействия.
Важно отметить, что духовное видение, способность к которому проявили наши авторы, далеко превосходит рефлексивные возможности возраста. Даже держа рисунок перед собой, ни один из подростков не в состоянии растолковать, про что он на самом деле (“Ноги не нарисовал? Ой, забыл... спешил... Сейчас дорисую”). Вербальный план и тот духовный, известивший о себе на языке символа, образуют параллель, где линии не пересекаются.
Средства, с помощью которых этот неосязаемо
присутствующий в ряде рисунков духовный план пытается изъявить себя,
черпаются из глубинных недр бессознательного, названного К. Юнгом, в отличие от
“личностного”, “коллективным”, чем подчеркивается его надындивидуальная,
общечеловеческая и вневременная культурно-историческая природа. “Коллективное”
бессознательное говорит на языке элементарных мифологических первообразов, или
архетипов (по определению автора, это предпосылки представлений, закрепленные в
структурах головного мозга и, следовательно, наследуемые нами). К
архетипическому, в принципе, сводимы все самые могущественные идеи и
представления человечества. Потому они и обладают способностью приводить душу в
движение, что пробуждает в человеке голос более громкий, чем его собственный:
“Говорящий архетипами говорит как бы тысячью голосов... проникая в сферу
вечносущего” [7; 118].
Надо ли говорить, что вся мифология Сотворения
Мира и Человека пронизана идеей единства души и тела и насыщена древними
образами, в которых она находит свое воплощение? Не суть важно, но все же
отмечу, существующий в мифологиях многих
32
народов
архетип деревянных человечков, “бездыханных” и “лишенных судьбы”. Перед тем как
дать куску дерева жизнь, боги должны достичь его “оформленности”, придав
совершенство телу и вдохнув в него душу. Но случается, что (на пиру, в
похмелье) они действуют слепо, даруя жизнь не самым удачным своим созданиям, да
так и бросают их на произвол судьбы, обрекая на мытарства и душу, и тело.
Изображение этих древних персонажей можно найти в мифологических словарях. Но
переживаешь что-то вроде легкого шока, когда непроизвольно воспроизведенную
копию этих образов неожиданно обнаруживаешь и в рисунках наших авторов,
современных подростков.
Источник бессознательного, всегда готовый
одарить человека “бесчисленными траекториями образов”, в которых не только он
сам более всего нуждается, переживая трудный психологический опыт, но которые
наиболее отвечают и духу времени, К. Юнг к концу своей жизни и деятельности все
более склонен был относить к проявлению высших сил с “иной стороны”, т.е. некой
объективной Души, не имеющей временных пределов. Знание, которое нисходит на
человека из этого источника, словно бы “невесть откуда”, он называл
опережающим, или “дальнознанием”.
Как нам кажется, без подобной завершающей
узловой точки структура символического образа была бы неполна. В бесконечности
его смысловой перспективы, наряду с содержаниями, имеющими сугубо
индивидуальный личностный смысл, должно найтись место для надындивидуальной
составляющей. Это тот смысловой пласт, где личность осознает себя вне себя,
обнаруживая духовное видение. Да и сама символика рисунка понимается на этом
уровне как проявление духовной реальности. Отсюда насыщенная энергийность символа.
Смысловая вершин~ тетраэдра, таким образом, становится по крайней мере
двухслойной, соответствуя разным по глубине и дальности смысловым планам
символического образа.
А в центре тетраэдра по-прежнему остается
телесность, “восчувствованная изнутри” и вышедшая за свои пределы.
“Живым ликом души” называл тело А.Ф. Лосев,
рассматривая и самую личность как “телесно осуществленный символ” (в логике
этого утверждения и религия немыслима без тела). Ибо тело, по его словам, есть
“известное состояние души, как душа есть известное состояние духа; и судьба
духа есть судьба души, а судьба души есть судьба тела” [4;
92]. Но здесь мы вступаем в область, которая уводит далеко за пределы нашей
темы.
1. Аверинцев С.С.
Символ // Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 607.
2. Василюк Ф.Е.
Структура образа // Вопр. психол. 1993. №
5. С. 5 – 12.
3. Велихов Е.П.,
Зинченко В.П., Лекторский В.А. Сознание: опыт междисциплинарного подхода //
Вопр. филос. 1988. № 11. С. 3 – 30.
4. Лосев А.Ф. Диалектика мифа //
Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 22 – 187.
5. Лосев А.Ф. Логика символа //
Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 247 – 255.
6. Юнг К.Г. Об отношении аналитической психологии к
поэтико-художественному творчеству // Феномен духа в искусстве и науке. М,
1992. С. 93 – 121.
7. Юнг К.Г. Душа и земля. //
Проблемы души нашего времени. М.,
1994. С.
134 – 158.
8.
Burns R. C. Self-growth in families: Kinetic family drawings (K-F-D)
research and application. N. Y., 1982.
9. Lacan J. The language of the Self. The function of language in psychoanalysis. N. Y., 1968.
10.
Machover K. Personality projection in the drawing of the human figure //
A method of personality investigation. N. Y., 1950.
Поступила в редакцию 27.IV 1995 г.